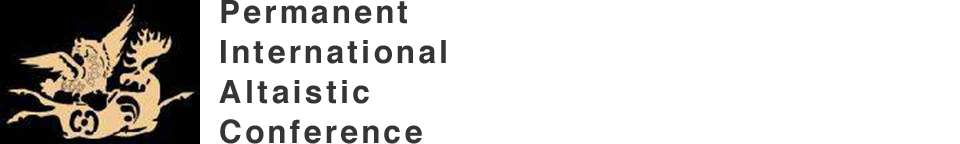О современном состоянии алтайской гипотезы
50th Annual Meeting of the PIAC, Kazan 2007
Summary. The situation of the spreading of the Altaic hypothesis is paradoxical: the Altaic reconstruction took the first steps in the first half of the XX century, but the majority of specialists were convinced of the existence of the Altaic kinship. Nowadays even the publication in English of the grand dictionary did not shake the common distrust of the Western scholars. I think that such difference of opinion in combination with such quantity of material is unique in the comparative linguistics. What is the matter? The first cause is the extreme complication and incomprehensibility of the comparative method for common people. The second cause is the very early time of the existence of the Altaic language even in comparison with the Indo-European one. The results of the later contacts between different Altaic languages are evident but it is difficult to account for the common basic vocabulary.
Автор данного доклада, не являясь компаративистом, подходит к алтайской проблеме как историк языкознания. Ситуация здесь парадоксальна: в первой половине XX в. реконструкция алтайского праязыка делала лишь первые шаги, но в существовании этого праязыка было убеждено большинство специалистов, теперь же даже появление в 2003 г. на английском языке фундаментального этимологического словаря С. А. Старостина, А. В. Дыбо и О. М. Мудрака не поколебало мнения об отсутствии алтайского родства. Это, кстати, показывает и редкое присутствие данной тематики на конференциях PIAC и малое упоминание на нее идей школы С.А.Старостина. В мировой компаративистике больше нигде, вероятно, нет столь большого расхождения во мнениях при столь значительном собранном фактическом материале. В чем тут дело?
Положения о родстве языков становятся в компаративистике общепринятыми в двух случаях. Первый случай – когда родство признается и без компаративистики, которая потом как бы научно освящает традицию; так было, например, с родством тюркских языков между собой, признававшимся задолго до XIX в. (исключение составлял лишь чувашский язык). Второй случай – когда в развитии той или иной дисциплины некоторое количество исследований переходит в качество и родство становится общепринятым. Так произошло с индоевропейскими языками. Этот рубеж до сих пор не преодолела алтаистика? Если отвлечься от политических или личных аспектов, то причин этого как минимум две.
Одна из таких причин – крайняя сложность и непонятность для непосвященных сравнительно-исторического метода. В такой обстановке нередко больше шансов быть услышанным получает либо хороший популяризатор, либо человек, умеющий весомо и внешне убедительно излагать свои взгляды (таким, на наш взгляд, был Дж. Клосон).
Вторая проблема состоит в определении того, что такое языковое родство. Чем оно более отдалено от нас, тем более дискуссионна идея о том, что реконструкции компаративистов отражают реальное прошлое языков (“божью правду”, как иногда говорят). Если алтайское родство существует, то оно настолько отдалено, что его очевидность теряется, возможность внелингвистических подтверждений для дописьменных эпох невероятна, а взаимопонимание между лингвистами различных школ достигается все с большим трудом. И часто здесь на первый план выступают субъективные факторы, несмотря на всю строгость великого сравнительно-исторического метода.