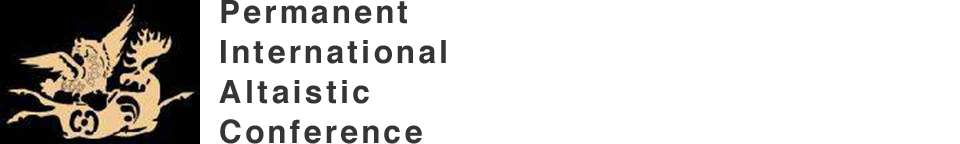Имперский фон древнетюркской цивилизации
50th Annual Meeting of the PIAC, Kazan 2007
Summary. The Turkic empire and its heir-states in the steppe zone of Eurasia (VI–X cc.) shaped a certain type of civilization which deeply transformed not only traditional social and political institutes of nomads but also their local cultural tradition, structure of religious concepts (politicized tengriism) and system of communicative tools (own script).
Фактор имперской традиции в истории сложения древнетюркской цивилизации еще ждет исследовательского внимания. Между тем, все, что мы можем определить как признаки, присущие цивилизации, и прежде всего, достаточно развитая письменность и запечатленная в этом письменности историческая память, явилось прямым следствием создания в степной зоне Евразии Тюркской империи и наследовавших их государств (VI-X вв.)
Динамика возникновения центральноазиатских империй, а все они созданы кочевниками, казалось бы проста и прозрачна. Уже первоначальный завоевательный импульс направлен не столько на расширение пастбищных территорий (это аномальный случай), сколько на подчинение стран с иным хозяйственнокультурным укладом. Степные племена консолидируются под властью одного вождя, одного рода, одной династии. Подчинив племена, соперничающие во власти над степью, завоеватель стремится поставить в зависимость от себя страны и народы с многообразными типами хозяйственной деятельности и, как правило, с развитой государственностью. Зависимость реализуется либо в форме непосредственного подчинения завоеванных стран новой династии, либо выплатой обусловленной дани. Именно на этой стадии государство, созданное кочевниками, преобразуется в империю.
Первоначально, в V-IV вв. до н.э., тенденция к интеграции в объединение имперского типа полилингвальной и полиэтничной массы скотоводческих племен определялась военными потенциями юэчжийского племенного союза, чье господство или военное преимущество было неоспоримым на пространстве от Восточного Притяньшанья и Горного Алтая до Ордоса. Но на рубеже Ш-П вв. до н.э., в ходе длительных и жестоких войн за власть над Степью, военные приоритеты перешли к их северо-восточным соседям и прежним данникам, племенам сюнну (гуннам).
В эпоху сюнну простые единицы социального и квазиполитического устройства, обозначаемые в современной научной литературе термином “вождест- во”, трансформировались в то состояние, которое мы определяем термином “раннее государство”, а применительно к обозначенным месту и времени — термином “архаическая империя”, объединенная силой или угрозой силы и сама состоящая из раннегосударственных образований и вождеств. Держава гуннов, выросшая из военной демократии жунских племен VI-IV вв. до н.э., сложилась в борьбе не на жизнь, а на смерть с соседними племенами и китайскими царствами.
Впрочем, по мнению Т.Барфилда (1991), не следует преуменьшать сохраняющееся значение племенной аристократии, а саму гуннскую державу лучше обозначить термином “имперская конфедерация” (imperial confederacy). Т. Барфилд считает, что для внутреннего развития кочевого общества государственные структуры не нужны и они возникают у кочевников только в результате воздействия внешних обстоятельств, исключительно для военного принуждения соседних государств к уплате дани (subsidies) или открытию пограничных рынков. Напротив, по мнению Е.И.Кычанова (1997), государство гуннов, как и иные государства кочевников, возникло в результате внутренних процессов в самом кочевом обществе, процессов имущественного и классового расслоения, приведших к рождению государства со всеми его атрибутами. Как бы то ни было, мне представляется верным наблюдение Дж.Флетчера (1986), считавшего, что “тенденция к империи” в раннегосударственных образованиях центральноазиатских кочевников проявлялась прежде всего во все возрастающей абсолютизации ханской власти и развитии жесткой военизированной структуры их административных и политических формирований.
В самом деле, рассмотрим, как запечатлены в текстах древнетюркских рунических памятников предписанные кагану деяния, определяемые его функциональным статусом.
Каган был прежде всего, гарантом благополучия “вечного эля” (т.е. империи), а основным условием существования эля провозглашены верность кагану бегов и “всего народа”. Имя кагана выступает как эпоним (“в эле Ильтериш-кагана”, “в эле Бильге-кагана”) и синоним (“земля Капаган-кагана” названия государства. Ради “тюркского эля” каган должен “приобретать (т.е. предпринимать завоевания) до полного изнеможения”, ради “народа тюрков” он должен “не спать ночей и не сидеть (без дела) днем”. Война и мир, битва и союз – все решается по воле кагана для благоденствия “тюркского эля”. Военные и дипломатические прерогативы кагана абсолютны, но ими не исчерпываются все его функции. Надписи постоянно фиксируют конкретные действия кагана и тем определяют его место в системе управления. Так, каган а) поселяет и переселяет побежденные племена, т.е. заново определяет их территорию; б) расселяет тюрков на завоеванной территории, распределяя земли между племенами; в) собирает, расселяет и “устраивает” тюрков в “стране Отюкен”, т.е. на коренной территории народа тюрков; г) передает на определенных условиях часть племенных земель в своей собственной стране каким-либо группам иммигрантов (например, согдийцам). Главным преступлением “народа” против кагана и “вечного эля” была откочевка на другие земли, т.е. выход из-под каганской власти. Поэтому памятники полны предостережений и угроз против тех, кто замыслил отделение — откочевку, а к числу главных функций кагана отнесено “собирание” и “устроение” народа на подвластной кагану территории, т.е. создание политической организации, системы подчинения.
Каковы были социальная и политическая структуры Тюркского эля? Тюркский племенной союз (тюрк кара камаг бодун), состоявший из племен (бод) и родов (огуш) был политически организован в эль. Родоплеменная организация (бодун) и военно-административная организация (эль), взаимно дополняли друг друга, определяя плотность и прочность социальных связей. По терминологии одного из рунических памятников хан “держал эль и возглавлял бодун”. Он осуществлял функции главы внутри своего собственного племенного союза (народа) по праву старшего в генеалогической иерархии и выступал в роли вождя, верховного судьи и верховного жреца. Вместе с тем, возглавляя эль, он выполнял функции военного руководителя, подчинявшего другие племена и страны, вынуждавшего их к уплате даней и податей.
Хан опирался на племенную аристократию — бегов. Обращаясь с надписями-манифестами к своим “слушателям” (“слушайте хорошенько эту мою речь!” — требует Бильге-каган) тюркские каганы выделяют среди внимающих им два сословия — знать и народ. Стереотип обращения — тюрк беглер бодун “тюркские беги и народ”. Наиболее резкое противопоставление знати и народа — памятниках уйгурской эпохи: атлыг “именитые” и игилъ кара бодун “простой народ”. Беги были аристократией по крови, по праву происхождения из того рода, особый статус которого и делах правления считался неоспоримым, освященным традицией. Элитой аристократии по крови был в Тюркском эле род Ашина, в государстве уйгуров — род Яглакар. Вместе с несколькими другими знатными родами, иерархия которых была общеизвестна и общепризнанна, они составляли особое наиболее привелигерованное сословие. Из них формировалась высшая имперская аристократия, правившая элем — айгучи “советники”, апа таркан “высшие командиры армии”, девять “великих буюруков” (три “внешних” и шесть “внутренних”), составлявших верховную администрацию эля, другие военно-административные руководители государства.
Декларируемой обязанностью кагана и его окружения была забота о благосостоянии соплеменников. Во всех надписях каганов и их сподвижников настойчиво повторяется, что только каган с помощью своих родственников и свойственников способен “вскормить народ”. В уцелевших фрагментах Бугут- ской надписи эта формула повторена трижды; про Мухан-кагана (553–572) сказано, что он “хорошо вскормил народ”. Бильге-каган постоянно напоминает, что он “одел нагой народ”, накормил “голодный народ”, сделал богатым “бедный народ”, благодаря ему “тюркский народ много приобрел”, “ради тюркского народа” он и его младший брат Кюль-тегин “не сидели без дела днем и не спали ночью”. Бильге Тоньюкук, айгучи трех каганов, напоминает о неустанных “приобретениях” ради тюркского народа осуществлявшихся Ильтериш-каганом и им самим, и сопровождает свои слова сентенцией: “Если бы у народа, имеющего кагана, тот оказался бы бездельником, то горе было бы у того народа!”
Несмотря на явное преобладание военных устремлений, в политических программах правителей Тюркского эля проглядываются и иные мотивы. Было и стремление к симбиотическим связям с иной цивилизацией и иными духовными ценностями, которыми она обладает. Уже четвертый тюркский каган, Таспар (572–581), свою главную заслугу видит в создании новой буддийской сангхи, т.е. в заимствовании и распространении буддизма в тюркской кочевой среде — вспомним санскритскую надпись на Бугутской стеле, начертанную, вероятно, индийским миссионером Чинагуптой. Десять лет Чинагупта и его ученики прожили при дворе Таспара, склонив его к принятию новой веры; но еще более, чем проповедь индийского монаха, Таспара побуждала к смене веры потребность в духовной связанности мирбвой империи, созданной дедом и отцом. Только жестокая междуусобная война и последующий распад единого эля остановили начавшуюся конверсию. В двадцатые годы VIII в. после победоносной войны с Китаем, решившей проблему южных караванов, т.е. китайской платы за мир на северной границе, Бильге-каган (716–734) резко меняет политическую линию отца и дяди, Ильтериш-кагана (687–692) и Капаган-кагана (692–716). Он пишет в своей apologia pro vita sua, начертанной на посмертной стеле младшего брата: “Я связал свою жизнь и жизнь своего народа с народом табгач!”. Внешним выражением смены курса Бильге избрал смену веры — он решил провозгласить государственной религией столь популярный тогда в Китае буддизм. Китаефильская политика встретила столь жестокое сопротивление элиты каганата, что Бильге вынужден был отказаться от своей идеи.
Минуло сорок лет, тюркскую династию уже сменила в ставке на Орхоне уйгурская династия, ее основатель Элетмиш Бильге-каган (747–759) избирает новое направление имперской экспансии — оазисные царства Восточного Туркестана. И сын Элитмиша, Бёгю-каган (759–779) обращает свой народ в манихейство. Он не скрывает, что новый акт выбора веры свершен им в результате соглашения с городами- государствами Таримского бассейна, где влияние и власть были в руках согдийских манихейских конгрегаций.
Опыт заимствования и распространения чужой веры не был единственным путем создания общеимперской идеологии. Исследования последних лет именно в религиозно-мифологическом слое древнетюркской культуры выявили системные совпадения в столь отдаленных друг от друга регионах как Северная Монголия, Кавказ и Дунайская Мадара.
Одна из надписей Мадарского святилища упоминает верховного бога пра- болгар, которого “хан и полководец” Омуртаг почтил жертвоприношениями. Имя бога — Тангра. Оно сразу вводит исследователя в мир древнейшей религии центральноазиатских кочевников, в мир орхонских тюрков. Но все же терминологического совпадения в имени верховного божества праболгар и древних тюрков недостаточно для более определенных выводов о степени их близости. Праболгарский пантеон из-за крайней скудости сведений о самих дунайских болгарах времен Первого Болгарского царства остается невыявленным и это обстоятельство заставляет обратиться к племенам праболгарского круга. Неожиданные и яркие сведения такого рода содержит источник, далекий от Дуная и Центральной Азии. В “Истории албан” Моисея Каланкатуйского (X в.) содержится текст “Жития епископа Исраэля”, главы албанской христианской миссии, которая посетила в 682 г. “страну гуннов” в предгорной долине Дагестана. Здесь еще в VI в. группа тюркоязычных гунно-болгарских племен создала жизнестойкое государственное объединение, которое в VII в. Ананий Ширакаци именовал “царством гуннов”. Автор “Жития”, албанский клирик, не поскупился на яркие характеристики “дьявольских заблуждений и скверных дел” идолопоклонников, погруженных, как он пишет, “в языческую грязную религию”. Именно из этих разоблачений становятся известны ценнейшие реалии, дающие представление о пантеоне, обрядах и обычаях праболгарских племен. Высшее божество пантеона— Тенгри-хан. Среди других — божество Земли — Воды (орхонское Йер-Суб), женское божество плодородия, которое албанский клирик, не чуждый классической образованности, называет Афродитой (орхон- ская Умай) “некие боги путей” (древнетюркские Йол-тенгри). Как очевидно, гунно-болгарский пантеон VII в. детально совпадает с пантеоном рунических текстов Монголии и Восточного Туркестана. Учитывая несомненное тождество гунно-болгарского и древнетюркского пантеонов и время миграции праболгарских племен (племенной суперсоюз огуров), оставивших свою центральноазиатскую прародину не позднее V в., возможно полагать, что та сложная религиозно-мифологическая система, которую мы называем “древнетюркской”, сформировалась еще до середины I тыс. н.э. Но в эпоху существования Тюркского каганата эта система пережила существенную трансформацию — возникает по- литиризованный общеимперский культ каганской четы, “рожденной на Небе и поставленной Небом”, культ кагана и его старшей жены, ставшими земной ипостасью четы небесной — Тенгри и Умай, покровительствующей династии. И наряду со “священной пещерой предков”, с ее ежегодными ритуалами и жертвоприношениями, появляются храмы каганов-предшественников, главным из которых в VI в. был храм основателя империи — Бумына. Именно после моления в этом храме и “совета” с духом обожествленного кагана-предка Таспар, как о том упоминает Бугутская надпись, принимал важнейшие государственные решения и объявлял их как волю кагана-основателя.
Таким образом, рассмотрение свидетельств рунических памятников и сообщений иных источников позволило обратиться к проблеме сложения социально-культурных и идеологических представлений, существовавших накануне появления древнетюркской государственности внутри и за пределами центральноазиатской ойкумены. С рождением Тюркского эля унаследованная традиционная культура приобрела новые формы, в рамках которых появились качественно иные формы бытия и новые коммуникативные средства — седентеризация и урбанизация части населения, строительство городов в местах степных княжеских ставок, религиозные искания и, вершина достигнутого, — письменность, прошедшая путь от камнеписных стел до рукописей на бумаге, письменность, породившая в VIII—XIII вв. богатую и разнообразную литературную традицию. Все это позволяет охарактеризовать древнетюркскую цивилизацию Центральной Азии как систему, включавшую в себе наряду с архаичными и консервативными прогрессирующие и подвижные структуры, определившие сравнительно высокий, хотя и кратковременный динамизм ее развития. Эта цивилизация была неотделима или, во всяком случае, генетически связана с Тюркским элем — первой евразийской империей, созданной кочевыми племенами Центральной Азии.