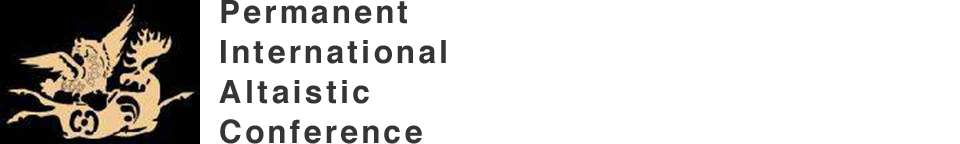Каузативные конструкции в монгольских языках
50th Annual Meeting of the PIAC, Kazan 2007
Summary. The paper deals with causative differentiation of factitive affixes, causative constructions and syntactic passive. The category of voice has always interested scientists, which is explained by its reference to the core of the grammar system. Besides, in spite of the existence of many scientific works on the subject, standard understanding of the voice category is the first approach that conveys the features, distinguishing different languages.
Категория залога с незапамятных времен продолжает оставаться предметом устойчивого интереса специалистов, что объясняется, во-первых, тем, что залог, согласно традиционной точке зрения, относится к ядру грамматической системы, образуя с такими центральными категориями глагола, как аспектуаль- ность, модальность, темпоральность, единую парадигму. Во-вторых, несмотря на очевидное изобилие грамматической литературы по залогу, следует заметить, что стандартные представления о залогах в общетипологических работах — это во многом первое приближение, за которым кроется множество признаков, отличающих друг от друга разные языки.
В монголистике категория залога была обозначена еще в первой научной грамматике монгольского языка, написанной в 1832 году Я. Шмидтом. В последующих грамматиках Александра Бобровникова (1835), О. Ковалевского (1835), Алексея Бобровникова (1849), в “Лекциях по грамматике монгольского языка” В. Л. Котвича (1902) уточнялись залоговые значения, их количество и средства выражения. Залогам посвящены работы современных ученых-монголоведов: Г. Д. Санжеева (1947; 1963), Б. Х. Тодаевой (1951), К. С. Ивченкова (1958), З. К. Касьяненко (1968), Т. А. Бертагаева (1969), Г. Жамбалсурэн (1975), Л. Болд (1976), М. Н. Орловская (1977), Ц. Б. Цыдендамбаева (1979), Е. А. Кузьменкова (1980; 1984), авторов “Монгол хэлнуудийн харьцуулсан хэл зуй” под редакцией Ш. Лувсанвандана и Л. Болд (1985) и др.
Одна из основных трудностей изучения побудительных глаголов в монгольских языках заключается в многозначности его морфологического маркера: суффиксы -уул/-юул, -лга/-лге вносят в значение слова и в предложение в целом различные смысловые нюансы; кроме того, они могут выражать как значение побудительного, так и страдательного залога, часто выступая лишь морфологической предпосылкой для той или иной реализации.
Обзор имеющихся памятников монгольской письменности XIII-XIV вв. приводит к выводу о том, что употребление суффиксов -уул/-юул, -лга/-лге в страдательном значении в доклассическом монгольском языке носит единичный характер.
В монгольском словаре “Мукаддимат ал-адаб” и других источниках XIII- XIV вв. часто встречаются примеры употребления суффиксов -уул/-юул, -лга/- лге в значении побудительного залога.
Для передачи пассивных значений в этот период служили суффиксы -гда/- гдэ/-гдо, -гсан/-гсэн, а также вспомогательные глаголы. Так, в упомянутом словаре “Мукаддимат ал-адаб” глагол kike ‘делать’, например, встречается даже там, где по контексту можно было бы ожидать каузативную форму: ebecin kibe tuni uile ‘работа причинила ему болезнь’ (с. 149).
В современных монгольских языках суффиксы -уул/-юул, -лга/-лгэ и их варианты широко используются как в каузативных, так и в пассивных оборотах, что зафиксировано в современных словарях.
Решающим критерием в дифференциации побудительной и пассивной конструкций является основной — семантико-синтаксический — признак пассива: несоответствие субъекта подлежащему в страдательных конструкциях, означающее, что действие не исходит от субъекта, тогда как в побудительной конструкции, напротив, субъект всегда является подлежащим, он заставляет, вынуждает, стимулирует объект выполнить названное сказуемым действие и потому условно может быть назван распорядителем.